Напиши мне — попробуй!
Александр Дорошенко.
(Художественно – исторический очерк)
Михаил Булгаков сказал – что рукописи не горят. Это правда. Они не горят, оттого, что рукописи. Что этим пером водила живая рука и живой блеск этих, закрывшихся множество лет назад глаз, следил за возникающим на бумаге узором из линий и букв. И живая рука, девичья, с детскими еще прожилками, держала этот квадратик картонки. Это глупость – искать отпечатки узора пальцев, - там сохранилось живое прикосновенье, и никакие приборы, сегодняшние, и самые совершенные приборы будущего, здесь не помогут, - только когда и если мы научимся видеть и слышать…
 Одесса – Швейцария. 1910 год. Адресовка: «Мм Маринич». Детский почерк и детский текст: «Дорогая моя мамочка! Наконецъ то я попала в Одессу... Скоро прiеду и разскажу все… Твоя Надя».
Одесса – Швейцария. 1910 год. Адресовка: «Мм Маринич». Детский почерк и детский текст: «Дорогая моя мамочка! Наконецъ то я попала в Одессу... Скоро прiеду и разскажу все… Твоя Надя».
«Дорогая моя мамочка! Наконецъ то я попала в Одессу... Скоро прiеду и разскажу все… Твоя Надя».
Эти слова уцелели. Вот они, точно такие же, как легли на бумагу впервые, с нажимами и утончениями, и на слове «мамочка», на его второй, после переноса, половине, видно, как чернила, в которые она только что обмакнула ручку, пролились на бумагу гуще, чем надо. Она набрала чуть больше чернил, чем положено, еще немного, и вышла бы клякса.
А ее нет. Нигде. Где-то на земле, - в ее глубине, лежит оставшееся.
Это несправедливо!
Вглядись!
Впереди вся жизнь. Красивый почерк, ровные строки письма - это выработано учением. Какие завитушки у этого слова «Швейцария»! Какие утолщения и переходы, меня ведь тоже учили этому, перьевыми ручками, в начальных классах школы. Все, как сегодня, сейчас написано, разве что позабытые «яти». Сегодня этой маленькой девчушке, которая еще и не начала жить, было бы, как минимум, лет 110-ть!
Увидев ее могилу, можно поверить времени, но, глядя на эти строчки, - немыслимо - и не должно такому верить!
«Тронь его и тронешь человека…»
Я писал книгу о Городе и первоначально вовсе не думал ее иллюстрировать, ни старыми, ни новыми фотографиями и тем более открытками. Старые открытки, много виданные мною в жизни, в этой работе над книгой мне представились окнами в прошлое горожан, удобными, чтобы подсмотреть их жизнь. Я и раньше подолгу задерживался на старых фотографиях во всяких альбомах, где на знакомых мне улицах Москвы или Санкт-Петербурга или Одессы было много людей, давно ушедших из жизни. Они шли по своим неотложным делам, торопясь и волнуясь, как и мы сегодня, просто стояли на перекрестках и у стен знакомых мне зданий, зачарованные направленным на них объективом фотографа - в те времена невозможно было сделать снимок, не привлекая внимание окружающих, таковы были размеры техники и долгая технология снимка.
Рассматривать пристально заинтересовавшего вас прохожего неудобно, но изучать его же фотографию вы сможете долго, кропотливо, с увеличительным стеклом, рассматривая детали одежды, выражение лица… Как пришпиленную булавкой бабочку в коллекционном альбоме. Есть в этом нечто, противостоящее привычной нашей морали и нормам жизни среди людей.
Старая открытка - окно на улицу в пелене дождя. Протри его и ты увидишь, как оживет эта картинка, пойдут по своим делам люди, женщина поднимется по ступенькам в хлебный магазин, поднимет руку мужчина и вдохнет сигарный дым… Я спущусь к ним на улицу, пойду среди них в толпе, касаясь плечом…
(Я уверен, вот ищу, и пока не нашел, но, рано-поздно, непременно найду – старую, столетней давности открытку со снимком Города, где-нибудь на углу Пушкинской и Базарной, - и на ней я увижу себя самого, переходящим брусчатую мостовую, - в странной одежде, той, тех времен, - снятым вполоборота, - и рассмотрю удивление на лице, вызванное неожиданной вспышкой снимка…).
Все призрачно в этом городе. Стоят дома и ты легко вспоминаешь, что именно так и было, вот этот, уже утраченный в новых временах, а здесь он ещё такой же. И люди, они обтекают тебя, бегут и торопятся по всяким давно угасшим делам, они говорят друг с другом, смеются и бранятся, но тебя не видят и прикоснуться ты к ним не можешь. Как музей, где восковой фигурой служишь ты сам…
«Вспоминать – идти одному обратно по руслу высохшей реки!»
Осип Мандельштам. Шум времени
Нет, конечно, река времени всегда полноводна. И чиста, ведь мы из нее уходим.
В этих простых словах, в заклинании этом, есть вечная просьба человека о любви.
Был многоцветный светящийся сам по себе шар, и его случайно уронив, разбили. Эти старые картонные кусочки, открытки и фотографии, - его сохранившиеся осколки. Не ошибайся - если ты уничтожишь такой осколок, сожжешь его, ты испепелишь чью-то живую жизнь! В это мгновение кто-то живой и смеющийся, там, в прошлом, ощутит и вздрогнет от непонятой острой боли.
Я с удивлением однажды понял лежавшее на поверхности понимания, - мне все равно, о чем писать. Хорошая ли это будет открытка, красочная и редкая, или всем общеизвестная, тысячекратно воспроизведенная, набившая оскомину. Я напишу о ней, об увиденном некогда старым фотоаппаратом, и вы удивитесь, что раньше этого не замечали. Удивляться тут нечему и на старой этой фотографии ничего подобного нет. Это там и вне ее поля, это во мне и в каждом из вас. Дайте мне качественную фотографию старого дерева, рухнувшего после долгой жизни, свежий срез его ствола. Дайте, и я расскажу вам такое о вас лично, чему вы не поверите вначале, но чем болеть будете с этого момента уже навсегда.
И поэтому то что я пишу, это не об этой картинке, и не об этом событии, вычитанном из книжек, и не обо мне и даже не о вас, какими нас все всегда и знали, но о пришельцах из иных миров, о странном и ином… Я не чувствую различия в материи и в фактуре и в сути между булыжником мостовой и лучшим стихотворением Иосифа Бродского, например, я читаю их одним известным мне способом, и не слева направо, или наоборот, сверху вниз, и даже не по диагонали, но способ чтения, мне присущий, я не могу пояснить вам, в виду отсутствия у нас основы для такого понимания, а у меня требуемых слов.
(Например, - это чтение в глубину…).
Поэтому, чтобы никого не пугать, я называю лису лисой, имея в виду известное вам по картинкам существо с длинным пушистым хвостом. Ведь вы же сами никогда не видали лису, а в зоопарке вам подсунули чучело искусственного зверя. Но и собаку вы никогда не видели, потому что, то, что вам представляется собакой, на самом деле совершенно иное. И не дай вам Бог когда-нибудь увидеть правильно, - вы навсегда утратите способность видеть…
Но самое страшное, что сведет вас с ума, - это правильно увиденное собственное лицо…
Поэтому часто я говорю вполсилы, шепотом, чтобы никого не напугать. Поэтому в двух трех обыденных словах почтовой открытки я вижу крик о помощи, угасшее биение испуганного сердца, во фразе, где женщина пишет подруге о купленной вчера вечером новой шляпке и описывает ее фасон. Я ничего не понимаю в фасонах женских шляп. С мужской фразой легче, в мужчине меньше пульсирующей крови, меньше плоти, в нем легче угадать болевой нерв. Но даже в женщине, вот в этой, столетие как покинувшей землю, даже в ее фразе, в выцветшем следе непросохших чернил, я, сквозь многослойность плоти и физиологии, сквозь странности интересов и пустоту представлений, читаю вечное Слово, так отчетливо, как врезанное глубоко в тело мрамора…
Ваше высокородие…
«Его высокородию …, ЕВП, Мм,…»
Одесса – Милан. 19 июня 1908 года. На карточке Воронцовский дворец, раскрашенная фотография, у Дворца застекленная колоннада (это потому, что в те времена там размещалась школа).
«В Одессе до того жарко, что все … плавятся»
Местное. 1909, декабрь.
«Ея Превосходительству Баронессе Прасковье Владимировне Каульбарсъ»
Поздравления с днем рождения и подпись: «Ваша Кукуля». Это какие же Каульбарсы, не на Николаевском ли бульваре? Кукуля - это опрометчиво, ведь только это и осталось навсегда…
«О-о-о, время!»
 Одесса – Кременчуг. 1910, апрель.«ЕВБ Маргарите Ивановне Melle Семашко»
Одесса – Кременчуг. 1910, апрель.«ЕВБ Маргарите Ивановне Melle Семашко»
«Дорогая Маргаритка? Наконецъ-то ты откликнулась, а то я совсем уж думала поссориться съ тобой…»
Маргаритке от Люси. Им лет по четырнадцать. На пятьдесят лет меньше чем мне и на пятьдесят лет они меня старше.
Какой веселый, смеющийся почерк. Прислушайтесь! Это письмо, квадратик этот картонный, он ведь полон смеха, - и в тишине, - он хихикает!
Вид Оперы. Ее называли – Городской театр. Теперь на месте часов в угловой башне зияет дыра. На башне флюгер с рекламной надписью «ПАТЕ». Двух левых домов нет, и на месте этой двухэтажки стоит в великолепном модерне дом…
(Заманчиво наблюдать изменения во внешности улиц на разновременных фотографиях того же самого места. У гостиницы Ришелье, что напротив Театра, на этих открытках был виден угловой, к Ланжероновской, во втором этаже балкон, потом он исчез. У главного гостиничного входа то есть, то нет навеса. И расположение вывесок изменено. Там, где на боковой стороне была реклама Банка, теперь вдруг крупная надпись во всю ширину здания и высоту антаблемента и получается, что это уже что-то, касательно « … дамскаго конфексіона модныхъ платьевъ». Куда-то девался задумчивый среднего возраста человек с тросточкой, явно вышедший прогуляться и поднявший голову к объективу, но вот та же самая открытка, и нет на ней уже бокового балкона и этого симпатичного прогульщика. Как ненасытно время!
И домики в два этажа, идущие за этой гостиницей к углу Дерибасовской уже обречены сносу. И дальше, через дорогу, тоже. На самом углу там вскоре встанет многоэтажный красавец в модерне, а напротив него доверительной коммерческой грузностью Банк. А вот люк дорожный, канализационный, лежит так перед входом в Театр и сейчас. Приди и стань на него и постой, в ожидании снимка. Тогда лет через сто, рассматривая и пытаясь представить, как оно было, ты станешь любопытен смотрящему… Прав Екклезиаст, никто не приведет нас за руку посмотреть, как это будет, после нашего ухода, но нас показать, пришедшим на наше место, эти снимки способны!
Вот странность - на множестве этом открыток нет вовсе гуляющих на поводке собак. Но ведь были, я видел их на живописных полотнах этого времени, опять же у Чехова дама… (интересно, к чему Чехов приплел там эту собачку, познакомить он, что ли, иначе не мог своих героев? И почему именно болонку, или левретку, не помню, впрочем, и лень беспокоить классика, только по фильмам знаю, там бегала болонка; но конечно, если бы дама была с овчаркой, история сложилась бы иначе…).
На углу Ланжероновской, у Театра, в здании, где располагалась газета «Одесский листок» (видна вывеска редакции над входом, прямо в нескольких шагах от Театра, там подрабатывал Жаботинский, и может быть, в момент этой съемки, он был в редакции) укреплен барометр и под ним термометр, крупный, уличный, и под ними почтовый ящик. Башенку на крыше дома венчал шпиль и флюгер, теперь она обезглавлена.
Конка, легкий открытый вагончик, без боковых стенок, с выгнутой небольшой дугой крышей, разворачивается перед Театром и сейчас уедет в Ланжероновскую улицу, и, пройдя ее насквозь, повернет по Гаванной вправо, а там влево, и скроется в Малом переулке… Вслед конке мужик тянет тачку, пользуясь ее рельсами для двух своих колес, как вагончик конки. Такая тачка была у моего деда в моем детстве. Дед поступал точно так же и переходил на трамвайные рельсы. Интересно, что и сегодня, водитель иногда направляет автомобиль по трамвайным рельсам - так меньше трясет на булыжной мостовой, искореженной при прокладке рельсов. Так и с укатанной колеей на проселочной дороге, - легче идти по ней. Здесь дело в соосности, в исчислении базового размера, который однозначно на всю длину человеческой истории определен размерами конского зада в упряжке. В невероятном темпе изменений реальностей нашей жизни и технологий, незыблемым эталоном длины останется размер конского зада и мощности - лошадиная сила.
Рельсы конки шли по центру Ришельевской, но на отрезке от Дерибасовкской к Театру они немного отклонялись в сторону здания Лионского кредита, чтобы легче выполнить разворот в узкую щель Ланжероновской).
Это девичье письмо. Пишет она вкруговую, вовсе не считаясь с почтовым ведомством. Пять беззаботных веселых дней. Это апрель, написано, видимо, 25-го числа. Череда праздников, день за днем, и, видимо, это пасхальные праздники. Апрельская прогулка на «Больфонтан». И запланирована на завтра, на воскресенье, прогулка на Хаджибеевский лиман, где в те времена был парк и гуляния. Так глубоко это пропало, гуляния на Хаджибеевском, что во всю свою жизнь я даже и не слышал о таком нашем прошлом. Днем у них стояла жара, а ночью шел дождь. Это было ровно 96 лет тому назад, день в день, как я пишу этот комментарий и сегодня все точно так же, жара днем и дождь ночью. Только нет парка Хаджибеевского и никто уже там не гуляет.
(Лежу, слушаю дождь, - он идет волной, чуть утихая, сводясь на нет, и внезапно налетая откуда-то вновь, где он накопился и ждал. Мне кажется, это тот самый дождь, о котором писала девочка, и она, вот так же, как я сейчас, где-то совсем неподалеку, может быть на соседней улице, лежала и слушала шум дождя, - нашу вечную колыбельную песню, - с тем же самым мотивом…).
В этом почерке – большое счастья жить, и нет еще жизненных невзгод. Он наполнен такой радостью жить и таким ожиданием – только самого-самого хорошего… Писала она весело и быстро. Если вглядеться в слова, можно различить след пера, и поспешив за ним, поднять глаз и увидеть ручку, и пальцы руки, молодой, девичьей… Услышать ее смех.
«Пиши как проводишь время и как у вас погода…»
Слово «пиши» перечеркнуло конку, поворачивающую на Ланжероновскую, а «погода» - конку, идущую – по Ришельевской к Дарибасовской. Я сегодня пересек Театральную площадь точно в том месте, где проехала чуть раньше эта самая конка, - я прислушался, - и мне показалось, что смог расслышать характерный цокот копыт и скрип вагона на повороте, - он успел повернуть и скрылся на Ланжероновской.
Одесса – Петербург. 1911 год.
 Одесса – Москва, Тверская. 1907 год. Большой фонтан. Лодки на берегу.Вид Детского Сада на склонах Приморского бульвара. «Погода жаркая», - все цвело в апреле в тот год в Городе, как и сегодня.
Одесса – Москва, Тверская. 1907 год. Большой фонтан. Лодки на берегу.Вид Детского Сада на склонах Приморского бульвара. «Погода жаркая», - все цвело в апреле в тот год в Городе, как и сегодня.
Одесса – Москва, Тверская. 1907 год. Большой фонтан. Лодки на берегу.
Видимо жизнь актера. Бенефис. Опера «Жизнь за царя». Денежные прикидки и расчеты. Почерк отвратительный и характерный в то же время. Письмо он писал, вначале, как положено, по открытке, а заканчивал, перевернув ее вверх ногами. И чернила поганые, где он писал это?
 Эта фамилия – Доброхотов, может и у него была такая, если родственники. Это из пьес Островского.
Эта фамилия – Доброхотов, может и у него была такая, если родственники. Это из пьес Островского.
Там располагалась мужская гимназия А.В. Юнгмейстера и для удобства и, видимо, расширения требуемой площади, был заложен портик, - в глухую со стороны Бульвара и высокими окнами между колонн.
Это шутливое письмо в Италию, «Премногоуважаемым итальянцам!». Середина июня 1908 года – в городе стояла страшная жара.
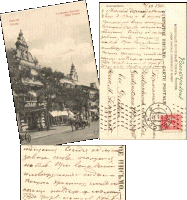 Одесса – Берлин. Июнь 1911 года. Бывшая гостиница «Виктория», - мой теперешний холодильный институт, его боковой на Пастера корпус.
Одесса – Берлин. Июнь 1911 года. Бывшая гостиница «Виктория», - мой теперешний холодильный институт, его боковой на Пастера корпус.
Промчалось время отпуска. Маме по-прежнему плохо:
«сегодня ей лучше, завтра снова жалуется на боль»
Уже сотня лет, как не жалуется…
Пропал навсегда отправитель и выбыл навсегда адресат. Адрес верен, и мало что изменилось, - стоит дом, парадное и дверь та же… Это написано ко мне – я получил и прочел, и вот утром иду в институт, подхожу к этому входу (нет козырька навеса и нет лошадок, а встречно им сегодня несется стая машин…), почтовая карточка в кармане пиджака, и, остановившись на углу Дворянской и Пастера, я, достав отрытое письмо, смотрю на фотографию моего теперешнего институтского корпуса, сличаю черты и считаю утраты, и вспоминаю слова – адресованные мне…
Это как крик – на ночном сиротском мосту – над безысходной рекой именем Стикс – в бесконечное никуда – ко мне – этот голос должен найти адресата, - должен быть услышан!
Минск – Киев. Июль 1911 года. Эта наша открытка заблудилась, или ее пересылали в поисках адресата. На карточке фото Херсонской улицы с видом на Реформатскую церковь, что прямо через дорогу от гостиницы «Виктория».
«Ее Высокородию…»
27 июля в Городе прошел небольшой дождь… Они были в Соборе и дети причащались. Вишня в тот год стоила в конце июля 18 копеек за фунт (это выходит 45 копеек за килограмм).
Одесса – Москва. Август 1911 года. Письмо отправлено из Одессы 21 08 1911 и пришло в Москву 23 числа августа. Сегодня такое письмо идет в среднем неделю. И это надо отправлять заказное - обычное может пропасть на путях странствий.
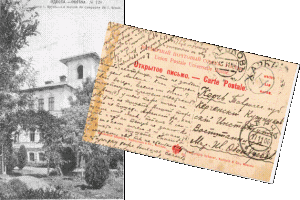 «ЕВБ Зинаиде Алексеевне Ммъ Лобович»:
«ЕВБ Зинаиде Алексеевне Ммъ Лобович»:
«Мы брали теплые морские ванны…»
Были в Городе такие ванные всегда…
Дача Брун на Фонтанах. Модерн, чистый, ясный. Харьков – Керчь на нашей открытке. Керченский Кутниковский институт. Воспитанница Мар. Ив. Оболдуева. Это из «Горя от ума», или из пьес Островского.
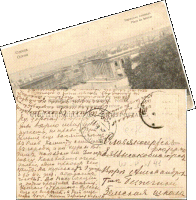 Ея Высокоблагородию Вере Александровне Г-же Безпечной в Земскую школу в Славянскосербске Екатер. Губ.«Никто никому не пишет»
Ея Высокоблагородию Вере Александровне Г-же Безпечной в Земскую школу в Славянскосербске Екатер. Губ.«Никто никому не пишет»
Из Одессы в Санкт-Петербург.
«7 Авг., 5ч. веч.: Лиман - 230, Открытое - 180, Ванны - 250»
Это девушка на каких–то курсах. Она только приехала и еще не видела Города. Они с подружкой снимают комнату в центре, а ехать приходится далеко. И много занятий,
«а тут еще жара 40 гр.»
Что это за манера такая исписывать открыточный квадратик, вверх ногами и наискосок!
Одесса-Сортировочная - Луганск. 1914-1916 год. Нет года – кто-то, видимо, коллекционер, сорвал марку вместе с печатью. На открытке будка на углу Екатерининской и Дерибасовской. Она вместе с угловым фонарем попала в анналы истории.
Первая Мировая война. Это команда службы ж/д путей и их дальше направляют в Галицию. Живут они в вагонах прямо на станции. Хочется ему пожелать удачи, чтобы остался жив… Но, если его не догнала пуля, или разрыв снаряда, - его догнала жизнь!
Москва, Сретенка, Колокольников переулок – какое очарование этого адреса! И какая дата письма - 25 февраля 1917 года! Революция.
Одесса – действующая армия. 1917 год. Письмо без марки. Вид Биржевой (Думской) площади. На боковой стороне здания Биржи был чугунный навес на столбиках. Его навершие из чугунной филиграни. Там сохранилась только площадка. Платаны совсем маленькие, теперь это гиганты, выросшие на просторе площади и полностью закрывшие собою вид Думы.
 «Солдату – гражданину… Теперь вся надежда на фронтовые войсковые части, которые куют нам лучшее будущее…»
«Солдату – гражданину… Теперь вся надежда на фронтовые войсковые части, которые куют нам лучшее будущее…»
Выкуют, - осталось недолго ждать.
Рисованная открытка-сувенир. У меня таких пять, разного времени, от 1902 до 1928 года. Просто на открытке ставился иной год и изменилось название страны. Приписка внизу, по краю, чтобы не испортить вид рисунка. Поздравления новорожденному.
«Кажется, будем назначены в Севастополь»
Справа решетка у садика при судебных учреждениях (там теперь железнодорожное ведомство). Видно, что этот старый вокзал монументален, а нынешний, даже и больших размеров, - нет! Старый вокзал был «низкорослый» . Он был построен в 1884 году по проекту В.А. Шретера (строил его Бернардацци). Создан он был в неоклассическом стиле, по «тупиковой» схеме расположения объема в конце перронов. От Пушкинской были входы для пассажиров I и II классов, а III-й класс имел вход со стороны Сенной площади. Теперь этих классов не стало, но для I и II-го есть СВ и купейные вагоны, а для III-го существуют общие. На площадь выходили три арки главного фасада в обрамлении колонн дорического ордера. Остался навсегда неосуществленным остекленный (хрустальный) дебаркадер над перронами и отдельный павильон для царской семьи. Нынешнее здание 1952 года повторяет в целом старый вокзал, разрушенный войной. В начале века в состав вокзальных помещений вошел комплекс служебно-производственных зданий, построенных в модерне, они сохранились и тянутся вдоль перронов, а трех- и двухэтажные выходят на Старосенную площадь - «ЮЗЖД 1910».
Москва – Одесса. 1928 год. Использована старая еще дореволюционная открытка с рисованным видом Вокзала.
«Жизнь наша не особенно приветлива, а потому все как-то идет ненормально… Много ли хлеба у Вас?»
Время практически наше, - вот-вот мы вернемся к себе!
